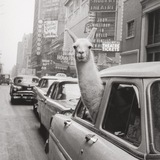Короче — чтобы было совсем весело, у нас залило подстанцию во дворе и она, кажется, загорелась. Фестивалим со свечами!
🔥21❤4🥰3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Бесконечно можно смотреть, как течёт вода и как горит твоя подстанция.
⚡17🔥11🙊5🤬2❤1
Докладываю по обстановке: приехали по моему вызову (Высокая Социальная Ответственность!) мокрые пожарные, долго и мрачно бродили вокруг дымящейся трансформаторной подстанции, расколотили топором стекло и щупали там внутри тепловизором. Потом прибыли не менее мрачные сотрудники Россетей, сказали «ну ёб вашу мать», затем безо всяких тепловизоров и респираторов вошли внутрь подстанции, чота там поделали и — о, счастье — электричество вернулось. Пельмени спасены, свечи сэкономлены. До следующего раза. Слава, слава Россетям!
😁53👍23❤9
Предвкушаю завтрашние крокодиловы слёзы (а то нам тут мало налилось) Елены Дятловны по поводу того, как злобные фашисты плохую ливнёвку сделали в Кёнигсберге. Судя по всему, затопило у нас даунсайд нехило. Были бы журналисты в Калининграде, мы бы об этом уже узнали, но там только бесконечные одинаковые фотокарточки с паркета, да унылая дрочь про то, о чём кто писал тридцать лет назад, так что ждать актуальных новостей вряд ли стоит.
💯71👏6😭6❤3😢2
И наша постоянная рубрика «ебучая маркетология». Спасибо, симпл, родной, разогнали среди абсолютно нихуя не понимающих в вине людей спрос на Галицкого такой, что красные винтажи 2023 года, кажется, все выпиты, хотя им лет 10 бы лежать. Теперь, оказывается, по какой-то причине вина Краснодарского края и Крыма для жителей Калининграда должны ощущаться как «своё, родное, локальное».
Заставь маркетолога богу молиться, он и себе ебало расшибёт, и все бутылки расколотит.
Заставь маркетолога богу молиться, он и себе ебало расшибёт, и все бутылки расколотит.
👍11💩7🤣5🍾2👏1💔1
Генпрокурор и глава Следственного комитета борются за пост главного судьи страны. Неплохо, неплохо.
🤡22😁7🤯6💩6🙈2❤1
«Подготовка была. Со вчерашнего дня мы задействовали основную часть сил, — заявил Орумбеков. — С 12 ночи было задействовано уже пять бригад. На каком-то количестве улиц мы перекрывали движение, а какое-то количество мы мониторили. Мы привлекали ресурсы каналопромывочных машин».
В нормальном мире чиновники либо сделали свою работу, и молодцы, либо не сделали, и мудаки (тогда извиняются).
В русском мире чиновники: «мы задействовали пять бригад и каналопромывочные машины».
Мозгопромывочные бы лучше задействовали.
В нормальном мире чиновники либо сделали свою работу, и молодцы, либо не сделали, и мудаки (тогда извиняются).
В русском мире чиновники: «мы задействовали пять бригад и каналопромывочные машины».
Мозгопромывочные бы лучше задействовали.
2👍40💯15😁13❤5🤣3👏2🙉1
Ну что же, добрались и мы до филиала Третьяковской галереи в Калининграде. Тут стоит сразу сделать предупреждение. Если для вас посещение этого очага культуры — самое светлое воспоминание последних лет… Если вы до сих пор не можете перестать задыхаться от эмоционального наполнения увиденного… Если вам там было так красиво, что это перевесило все невзгоды этих самых последних лет… В общем, в таком случае срочно прекращайте читать этот пост. Не мучайте себя. Далеко не все тексты должны быть прочитаны. Некоторые, возможно, даже и не должны быть написаны.
Визит был оттянут максимально, потому как в первый месяц после открытия в местной квазикультурной среде творилось форменное безумие — каждый второй считал своим долгом поместить в соцсети фото из галереи и поделиться радостными возгласами. Что, в целом, неудивительно и вполне нормально. Культурная депривация есть ключевая часть всего российского бытия, калининградцы в этом смысле были в чуть более лучшем положении до 2020 года, но дальше, как говорится, «а что случилось?». Для меня коллективное потребление эмоций не является ценностью ни в смысле спорта (я его ненавижу), ни в смысле музыки (стадионные концерты хороши лишь тем, что творится на сцене), ни в смысле живописи. Мой идеальный музей — тот, в котором я нахожусь один в зале, и, к счастью, в таких я побывал в своё время в Европе. Утренние часы будних дней — отличное время, что в галерее Старых мастеров в Дрездене, что во дворце герцогов Бургундских в Дижоне.
Начинается всё с того, что нужно попасть в местный филиал Третьяковки, а это нынче непросто. Схему движения на острове явно придумывал какой-то садист, при этом, если ехать с улицы Октябрьской, то к зданию есть вполне себе заезд на парковку. Конечно же, перегороженный шлагбаумом, который вручную для избранных открывает специальный мужик. Остальным специальный мужик сообщает, что проезд — для экстренных служб, а ехать надо через всю эту нашу эпохальную стройку, по разбитым бетонным плитам, которые после известных событий перегораживает лужа глубиной сантиметров тридцать. Её, правда, пытаются откачивать помпой, но безуспешно — откуда-то снова прибывает. Для пущего веселья отсутствует какая-либо навигация, так что мотаться по острову можно довольно долго.
Ну ладно, преодолев людскую чёрствость, разливанные моря и строительные заборы, с трудом открыв тяжеловесные входные двери (культура — это не легко!) и представ перед мрачными росгвардейцами за рамкой, попадаешь, наконец, внутрь. Масштабно, величественно, даже где-то помпезно. Архитекторы прям постарались, и ведь это — первое за многие годы (вероятно, с момента строительства позаброшенной ныне галереи на Московском проспекте) здание Калининграда, непосредственно спроектированное для подобных целей, а не приспособленное.
Ключевая (всего их пока что две, вторая про историю Третьяковки) экспозиция, про пять веков русского искусства, находится на втором этаже; можно подняться на лифте, но куда интереснее вскарабкаться по широченной лестнице с деревянными ступенями, на которых сидят уже, видимо, впитавшие величие пяти веков граждане. И вот, очередные тяжёлые двери, и ты уже благоговейно взираешь на Владимирскую икону Богоматери. Впрочем, благоговеть перед Богоматерью получается недолго. Во-первых, ты немедленно обнаруживаешь себя натурально в толпе, а во-вторых тебе тут же в не терпящем возражений тоне бабушка-смотрительница заявляет: «Проходим вперёд!»
Визит был оттянут максимально, потому как в первый месяц после открытия в местной квазикультурной среде творилось форменное безумие — каждый второй считал своим долгом поместить в соцсети фото из галереи и поделиться радостными возгласами. Что, в целом, неудивительно и вполне нормально. Культурная депривация есть ключевая часть всего российского бытия, калининградцы в этом смысле были в чуть более лучшем положении до 2020 года, но дальше, как говорится, «а что случилось?». Для меня коллективное потребление эмоций не является ценностью ни в смысле спорта (я его ненавижу), ни в смысле музыки (стадионные концерты хороши лишь тем, что творится на сцене), ни в смысле живописи. Мой идеальный музей — тот, в котором я нахожусь один в зале, и, к счастью, в таких я побывал в своё время в Европе. Утренние часы будних дней — отличное время, что в галерее Старых мастеров в Дрездене, что во дворце герцогов Бургундских в Дижоне.
Начинается всё с того, что нужно попасть в местный филиал Третьяковки, а это нынче непросто. Схему движения на острове явно придумывал какой-то садист, при этом, если ехать с улицы Октябрьской, то к зданию есть вполне себе заезд на парковку. Конечно же, перегороженный шлагбаумом, который вручную для избранных открывает специальный мужик. Остальным специальный мужик сообщает, что проезд — для экстренных служб, а ехать надо через всю эту нашу эпохальную стройку, по разбитым бетонным плитам, которые после известных событий перегораживает лужа глубиной сантиметров тридцать. Её, правда, пытаются откачивать помпой, но безуспешно — откуда-то снова прибывает. Для пущего веселья отсутствует какая-либо навигация, так что мотаться по острову можно довольно долго.
Ну ладно, преодолев людскую чёрствость, разливанные моря и строительные заборы, с трудом открыв тяжеловесные входные двери (культура — это не легко!) и представ перед мрачными росгвардейцами за рамкой, попадаешь, наконец, внутрь. Масштабно, величественно, даже где-то помпезно. Архитекторы прям постарались, и ведь это — первое за многие годы (вероятно, с момента строительства позаброшенной ныне галереи на Московском проспекте) здание Калининграда, непосредственно спроектированное для подобных целей, а не приспособленное.
Ключевая (всего их пока что две, вторая про историю Третьяковки) экспозиция, про пять веков русского искусства, находится на втором этаже; можно подняться на лифте, но куда интереснее вскарабкаться по широченной лестнице с деревянными ступенями, на которых сидят уже, видимо, впитавшие величие пяти веков граждане. И вот, очередные тяжёлые двери, и ты уже благоговейно взираешь на Владимирскую икону Богоматери. Впрочем, благоговеть перед Богоматерью получается недолго. Во-первых, ты немедленно обнаруживаешь себя натурально в толпе, а во-вторых тебе тут же в не терпящем возражений тоне бабушка-смотрительница заявляет: «Проходим вперёд!»
❤27👍14🎉7😐5😁2💩2🙈2💯1🖕1
Тут всё хорошее стремительно начинает заканчиваться; если те, кому в местной Третьяковке было так красиво, что они до сих пор выдохнуть не могут, продолжают зачем-то читать, умоляю: прекращайте. Слуште, мы с Катей купили билеты за вменяемые деньги. Билеты, если что, приобретаются на сайте, при этом там есть некоторое подобие ограничения потока: билет покупается на определённое время, и типа там их лимитированное количество. И я не хочу ни стоять в толпе, ни проходить по повелению бабушки. Может быть, я хочу стоять перед редкой иконой Ангела Хранителя с крестом и огненным мечом в руках, подписанной Фёдором Рожновым полчаса. Или час. Или полтора. Камон, на улице 2025 год, мировая музейная мысль, мягко говоря, шагнула вперёд, и посетители — это давно не стадо баранов, которых надо оперативно прогнать по коридорам, увешанным картинами. Это самодостаточные личности, которым нужно подарить эмоции. Может быть, они такими не выглядят. Но если к ним так не относиться, они такими и не станут.
Но нет, дарить эмоции тут не принято, по крайней мере — эмоции возвышенные. Те, кто обустраивал эту экспозицию, прям постарались изо всех сил, чтобы помешать восприятию всей мощи пяти веков русского искусства. Само пространство экспозиции своей узостью резко диссонирует с размахом всего здания филиала; местами между стенами с трудом может разойтись три человека, а ещё туда, как нельзя более удачно, воткнули стульчик смотрительницы. Ужасающе выстроеный свет; как можно в 21 веке ставить в галерее свет так, чтобы он бликовал на закрывающем особо ценные экземпляры стекле — понять невозможно. Абсолютно абсурдно выглядящие зеркальные (!!!) донельзя аляповатые пожарные шкафы. Максимально дёшево и отталкивающе выглядящий линолеум ёлочкой. Человек, который выстраивал это экспозиционное пространство, максимально чужд прекрасному.
Бабушки-смотрительницы стоят отдельного слова; я их очень люблю и уважаю, но концентрация их там велика настолько, а смотрят они на посетителей, курсирующих по залам не в каноническом порядке, так подозрительно, что я ощутил себя натурально в детском саду, под грозным взором нянечки, которая требует доесть всю гороховую кашу, а то вся группа не пойдёт гулять. Временами возникает хулиганское желание начать ходить за такой бабушкой и пристально смотреть на неё, но у них на этот случай есть рации, а внизу — грозные росгвардейцы с дубинками.
Но хуже всего — теснота, теснота во всём. Суперплотно слепленные экспонаты, тесные коридоры, пресловутый шедевр Малевича ютится где-то в уголке, при этом, кроме хронологии, особой логики в расположении картин и скульптур не просматривается. Да, есть некоторая попытка поиграть с пространством — канонические портреты Ахматовой и Гумилёва кисти Делла-Вос-Кардовской висят рядом, на одинаковых порталах, но почему их разделяет какая-то среднерусская тоска средней же руки? Потому что её некуда было повесить?
При этом полная, конечно же, эклектика, особенно в части, касающейся XX века — там количество дурновкусного соцреализма зашкаливает, все эти «Свадьбы на завтрашней улице» вызывают желание срочно пойти в обратном направлении и обнять бюст Толстого. А, да, ещё, конечно же, аннотации к картинам, прочитать которые даже человек с острым зрением может лишь приблизившись вплотную. Есть и современные веяния — QR-коды для самостоятельного изучения. Впрочем, и тут не обошлось без иронии: мобильная связь внутри не работает, а местный вай-фай включается только когда выходишь из зала с экспозицией (вполне возможно — лишь у меня).
Но нет, дарить эмоции тут не принято, по крайней мере — эмоции возвышенные. Те, кто обустраивал эту экспозицию, прям постарались изо всех сил, чтобы помешать восприятию всей мощи пяти веков русского искусства. Само пространство экспозиции своей узостью резко диссонирует с размахом всего здания филиала; местами между стенами с трудом может разойтись три человека, а ещё туда, как нельзя более удачно, воткнули стульчик смотрительницы. Ужасающе выстроеный свет; как можно в 21 веке ставить в галерее свет так, чтобы он бликовал на закрывающем особо ценные экземпляры стекле — понять невозможно. Абсолютно абсурдно выглядящие зеркальные (!!!) донельзя аляповатые пожарные шкафы. Максимально дёшево и отталкивающе выглядящий линолеум ёлочкой. Человек, который выстраивал это экспозиционное пространство, максимально чужд прекрасному.
Бабушки-смотрительницы стоят отдельного слова; я их очень люблю и уважаю, но концентрация их там велика настолько, а смотрят они на посетителей, курсирующих по залам не в каноническом порядке, так подозрительно, что я ощутил себя натурально в детском саду, под грозным взором нянечки, которая требует доесть всю гороховую кашу, а то вся группа не пойдёт гулять. Временами возникает хулиганское желание начать ходить за такой бабушкой и пристально смотреть на неё, но у них на этот случай есть рации, а внизу — грозные росгвардейцы с дубинками.
Но хуже всего — теснота, теснота во всём. Суперплотно слепленные экспонаты, тесные коридоры, пресловутый шедевр Малевича ютится где-то в уголке, при этом, кроме хронологии, особой логики в расположении картин и скульптур не просматривается. Да, есть некоторая попытка поиграть с пространством — канонические портреты Ахматовой и Гумилёва кисти Делла-Вос-Кардовской висят рядом, на одинаковых порталах, но почему их разделяет какая-то среднерусская тоска средней же руки? Потому что её некуда было повесить?
При этом полная, конечно же, эклектика, особенно в части, касающейся XX века — там количество дурновкусного соцреализма зашкаливает, все эти «Свадьбы на завтрашней улице» вызывают желание срочно пойти в обратном направлении и обнять бюст Толстого. А, да, ещё, конечно же, аннотации к картинам, прочитать которые даже человек с острым зрением может лишь приблизившись вплотную. Есть и современные веяния — QR-коды для самостоятельного изучения. Впрочем, и тут не обошлось без иронии: мобильная связь внутри не работает, а местный вай-фай включается только когда выходишь из зала с экспозицией (вполне возможно — лишь у меня).
❤26👍19🔥7💯6😁5👀4💩3👎2👏1🤬1
«Да ты маленько охерел!» — скажут мне ценители прекрасного. Тебе, стало быть, привезли шедевры русской культуры, причём оригиналы, а не какие-то там копии, за какие-то копейки дали возможность на них смотреть, а ты тут к линолеуму и пожарным щитам придираешься? В тесноте, да не в обиде, жрите что дают, так бы до скончания веков смотрел на чучело лося в историко-художественном музее. Висит плотненько? Да посмотри, как у самого Третьякова в первом изводе галереи была экспозиция сделана, там палец между картинами не просунешь! Кстати, посмотреть можно, не отходя от кассы — экспозиция про историю Третьяковки сделана практически безупречно, со всеми современными трендами, инклюзивностью и мультиплатформенностью, очень круто.
Ну да, охерел. Потому что хочу, знаете ли, чтобы всё было хорошо. Чтобы не тесные коридоры, а по-настоящему большая, свободная площадь экспозиции, которая бы подчёркивала безграничную свободу русского духа, воплотившуюся в искусстве. Чтобы бабушки не смотрели так, будто я хочу тут же схватить «Голову Иоанна Крестителя» А.А. Иванова и убежать с ней под мышкой прочь, длинными прыжками преодолевая затопившие остров после ливня потоки. Да, при Остроухове и Грабаре картины висели в здании на Лаврушинском переулке суперплотно, но с тех пор в музейной мысли, повторю, многое поменялось. Да и не только в ней. Понимаете, количество визуальных образов, с которыми сталкивался обычный человек даже в начале XX века, и тот объем визуальной информации, который валится на него сегодня, несравнимы. Именно поэтому в современных музеях подход к формированию пространства по принципу "у нас есть XXX картин, давайте их рассуём с максимальной плотностью" не работает.
Ну ладно, хватит о грустном. Для себя я нашёл то, что мне было нужно, тот источник эмоций, который повернул какие-то шестерёнки внутри меня. Ровно две картины, которых мне бы, в целом, хватило, и для восприятия которых засунутый в угол «Чёрный квадрат» даже лишний. Это совершенно магические «У моря. Семья» Дмитрия Жилинского 1964 года и «Встреча Нового года в Прибалтике» Наталии Нестеровой (кстати — ученицы Жилинского) середины 1980-х. Про обоих художников я не знал примерно ничего, и это отдельно приятный культурный опыт.
Первая картина — вроде бы обыденный такой тоже соцреализм, какая-то набережная, мама с голыми детьми, папа вылезает из воды с рыбой, куда-то плывут лодки. Но это пока бежишь мимо, пытаясь избавиться от толпы зрителей, часть из которых считает своим долгом брать в оазис культуры орущих младенцев. Но потом делаешь шаг назад, вглядываешься — и это абсолютная магия, потому что здесь есть всё, от рублёвской иконы до Северного Возрождения, каждый, даже микроскопический, персонаж прописан до безумия, маниакально детально, со своей суперзадачей и своим внутренним миром. А на полотне Нестеровой, где на грязном снегу балтийского берега в макабрическом танце скачут вокруг ели обряженные в маски абстинентные жители то ли Клайпеды, то ли даже и Зеленоградска, ты неизбежно видишь самого себя — ну кто не оказывался в молодости в такой же дикой похмельной утренней первоянварской пляске с очевидным исходом. Стиль же невероятным образом сочетает наивность Шагала и Пиросмани с потусторонностью Сезанна.
Ради двух этих картин стоит идти на выставку, преодолевая всё тамошнее сопротивление, все эти толпы считающих своим долгом вслух прочесть аннотации зрителей, агукающих младенцев, подозрительных старушек, дикий диссонанс внешнего и внутреннего пространства, потраченных ресурсов и полученного результата, равно как и логистические невзгоды, риск гидроудара из грязной лужи и политическую турбулентность холодного августа 2025 года.
И очень хочется верить, что когда-то у создателей подобных культурных институций исчезнет необходимость в кратчайшие сроки осваивать эпические объемы бюджетных денег, презирая все концепции эмоционального воздействия на зрителя. А искусство, особенно русское (хотя, конечно, у искусства нет и не может быть национальности), перестанет быть инструментом провозглашения и реализации довольно безумных геополитических замыслов.
Ну да, охерел. Потому что хочу, знаете ли, чтобы всё было хорошо. Чтобы не тесные коридоры, а по-настоящему большая, свободная площадь экспозиции, которая бы подчёркивала безграничную свободу русского духа, воплотившуюся в искусстве. Чтобы бабушки не смотрели так, будто я хочу тут же схватить «Голову Иоанна Крестителя» А.А. Иванова и убежать с ней под мышкой прочь, длинными прыжками преодолевая затопившие остров после ливня потоки. Да, при Остроухове и Грабаре картины висели в здании на Лаврушинском переулке суперплотно, но с тех пор в музейной мысли, повторю, многое поменялось. Да и не только в ней. Понимаете, количество визуальных образов, с которыми сталкивался обычный человек даже в начале XX века, и тот объем визуальной информации, который валится на него сегодня, несравнимы. Именно поэтому в современных музеях подход к формированию пространства по принципу "у нас есть XXX картин, давайте их рассуём с максимальной плотностью" не работает.
Ну ладно, хватит о грустном. Для себя я нашёл то, что мне было нужно, тот источник эмоций, который повернул какие-то шестерёнки внутри меня. Ровно две картины, которых мне бы, в целом, хватило, и для восприятия которых засунутый в угол «Чёрный квадрат» даже лишний. Это совершенно магические «У моря. Семья» Дмитрия Жилинского 1964 года и «Встреча Нового года в Прибалтике» Наталии Нестеровой (кстати — ученицы Жилинского) середины 1980-х. Про обоих художников я не знал примерно ничего, и это отдельно приятный культурный опыт.
Первая картина — вроде бы обыденный такой тоже соцреализм, какая-то набережная, мама с голыми детьми, папа вылезает из воды с рыбой, куда-то плывут лодки. Но это пока бежишь мимо, пытаясь избавиться от толпы зрителей, часть из которых считает своим долгом брать в оазис культуры орущих младенцев. Но потом делаешь шаг назад, вглядываешься — и это абсолютная магия, потому что здесь есть всё, от рублёвской иконы до Северного Возрождения, каждый, даже микроскопический, персонаж прописан до безумия, маниакально детально, со своей суперзадачей и своим внутренним миром. А на полотне Нестеровой, где на грязном снегу балтийского берега в макабрическом танце скачут вокруг ели обряженные в маски абстинентные жители то ли Клайпеды, то ли даже и Зеленоградска, ты неизбежно видишь самого себя — ну кто не оказывался в молодости в такой же дикой похмельной утренней первоянварской пляске с очевидным исходом. Стиль же невероятным образом сочетает наивность Шагала и Пиросмани с потусторонностью Сезанна.
Ради двух этих картин стоит идти на выставку, преодолевая всё тамошнее сопротивление, все эти толпы считающих своим долгом вслух прочесть аннотации зрителей, агукающих младенцев, подозрительных старушек, дикий диссонанс внешнего и внутреннего пространства, потраченных ресурсов и полученного результата, равно как и логистические невзгоды, риск гидроудара из грязной лужи и политическую турбулентность холодного августа 2025 года.
И очень хочется верить, что когда-то у создателей подобных культурных институций исчезнет необходимость в кратчайшие сроки осваивать эпические объемы бюджетных денег, презирая все концепции эмоционального воздействия на зрителя. А искусство, особенно русское (хотя, конечно, у искусства нет и не может быть национальности), перестанет быть инструментом провозглашения и реализации довольно безумных геополитических замыслов.
❤65💯17🔥12👏9👍5💩3😁1🖕1
P.S. Полное отсутствие обсценной лексики в этом нескромно длинном посте можно расценивать как жест глубокого уважения к Третьяковской галерее и всем пяти векам русского искусства.
👍58❤38👏14😁14💩2🔥1🖕1
Темпранильо от Alma Valley — идеальная иллюстрация того, почему не нужно чересчур дохуя выёбываться на деньги ВТБ делать вино из темпранильо в России.
😁6🤔1💯1
Forwarded from Милованов Daily
Вообще, нет ничего хуже, чем замереть во времени. Не обращать внимания на то, что мир изменился. Не чувствовать это в воде, в земле, в воздухе, you name it. Жить, будто бы на дворе условный (абсолютно условный, ибо идеализированный, мной в том числе) 2007 год. Что ещё живо местное самоуправление, что ещё есть какие-то там выборы, что есть какие-то развилки и возможности для общественно-политической самореализации. И реагировать соответственно на поступающие извне импульсы — ах, боже ж мой, как так, буквально вчера цвела демократия, а вон же ж что творят железнодорожники.
Ну нет же, товарищи, всё проёбано ещё накануне ишачьей Пасхи, а ей десять лет уж как миновало. Нами самими и проёбано, потому что нельзя одновременно кататься и на хую и на люстре, нельзя кушать за обе пухлые щёчки бюджетную кашку (ну или квазибюджетную, утешая себя окольными путями миграции бабла) и при этом не получать фоллоу-апов, пусть и спустя 5-7 лет. Нельзя получать от жизни всё, не давать ей ничего взамен, а потом вдруг начать себя вести так, как будто не было этого обжиралова многолетнего. Оно было, а потом была расплата, а потом всё поменялось.
Да, очень хочется, чтобы всё было как встарь, и «Новые колёса», и либералы в думах (пусть и в бестолковом меньшинстве, но беспрестанно голосящие), и имитация свободы печати. Но всё поменялось, всё едет по железобетонным рельсам под предводительством нового Политбюро, и игнорировать это не то чтобы преступно, но довольно-таки самоубийственно. Окей, хочется радикальных перемен — ну камон, вперёд, на баррикады, с флагом в жопе, как раз к СИЗО разработаете это направление себе. Ну или принимайте общественно-политическую действительность, которую сами создали своим обществом неумеренного потребления, такой как она есть. Когда идёт дождь, воздевать к небу руки и выкрикивать проклятья довольно забавно, но, к сожалению, не особо продуктивно.
Но вот это недоуменное удивление — ах, как же так, кто спиздил-то всё — это совсем глупо и по-детски. Сами всё и спиздили, точнее продали за бесценок, за кредитную машинку, за Новый год на Таймс-Сквер, за сказочноебали, за айфончик и стейк, ну или того хуже — вообще почти бесплатно. Но сами, сами это сделали, сами, а не в цепях-кандалах ведомые ушкуйниками. Работали на выборах, работали с правительством, работали с бюджетом, работали и зарабатывали. Чай не последний хуй с маслом ели.
Так нехуй и пиздеть.
Ну нет же, товарищи, всё проёбано ещё накануне ишачьей Пасхи, а ей десять лет уж как миновало. Нами самими и проёбано, потому что нельзя одновременно кататься и на хую и на люстре, нельзя кушать за обе пухлые щёчки бюджетную кашку (ну или квазибюджетную, утешая себя окольными путями миграции бабла) и при этом не получать фоллоу-апов, пусть и спустя 5-7 лет. Нельзя получать от жизни всё, не давать ей ничего взамен, а потом вдруг начать себя вести так, как будто не было этого обжиралова многолетнего. Оно было, а потом была расплата, а потом всё поменялось.
Да, очень хочется, чтобы всё было как встарь, и «Новые колёса», и либералы в думах (пусть и в бестолковом меньшинстве, но беспрестанно голосящие), и имитация свободы печати. Но всё поменялось, всё едет по железобетонным рельсам под предводительством нового Политбюро, и игнорировать это не то чтобы преступно, но довольно-таки самоубийственно. Окей, хочется радикальных перемен — ну камон, вперёд, на баррикады, с флагом в жопе, как раз к СИЗО разработаете это направление себе. Ну или принимайте общественно-политическую действительность, которую сами создали своим обществом неумеренного потребления, такой как она есть. Когда идёт дождь, воздевать к небу руки и выкрикивать проклятья довольно забавно, но, к сожалению, не особо продуктивно.
Но вот это недоуменное удивление — ах, как же так, кто спиздил-то всё — это совсем глупо и по-детски. Сами всё и спиздили, точнее продали за бесценок, за кредитную машинку, за Новый год на Таймс-Сквер, за сказочноебали, за айфончик и стейк, ну или того хуже — вообще почти бесплатно. Но сами, сами это сделали, сами, а не в цепях-кандалах ведомые ушкуйниками. Работали на выборах, работали с правительством, работали с бюджетом, работали и зарабатывали. Чай не последний хуй с маслом ели.
Так нехуй и пиздеть.
💯52❤13😢10💊4👍3💔3👏1🤔1🤣1
___________________
Хорошие идеи видно сразу. Как и плохие. Ассимиляция — процесс, который, как и выращивание помидоров в теплице, не терпит пинков. Чтобы стать здесь своим, нужно медленно и спокойно прорастать, желательно — обогащая окружающую среду, а не потребляя её. Жаль, что адептам креативных индустрий это вряд ли дано понять.
Хорошие идеи видно сразу. Как и плохие. Ассимиляция — процесс, который, как и выращивание помидоров в теплице, не терпит пинков. Чтобы стать здесь своим, нужно медленно и спокойно прорастать, желательно — обогащая окружающую среду, а не потребляя её. Жаль, что адептам креативных индустрий это вряд ли дано понять.
💯62🔥9❤8👏2🤨2👾2❤🔥1
Касательно фестиваля вина тут спрашивали. Ничего про него не знаю, видел пляшущих дам в париках, не одобряю, остальное — почему бы и нет, если на такое есть спрос. Впрочем, проводить фестивали вина мне кажется осмысленным там, где вино делают. С этой точки зрения более неуместными, чем Калининград, местами для подобных активностей могут быть разве что земля Франца-Иосифа и Биробиджан.
Истории про великолепные успехи выращивателей сорта солярис в люблинских полях оставьте при себе, я это пробовал, это за гранью добра и зла.
Истории про великолепные успехи выращивателей сорта солярис в люблинских полях оставьте при себе, я это пробовал, это за гранью добра и зла.
1🤣48😁8❤6👏6🤨3💅2👍1💯1🤝1🫡1
Вряд ли кто-то сегодня вспомнил в этой мегастранной истории с топ-менеджером без головы, но всё же. «К-Поташ Сервис» — это ещё и чуваки, посредством которых упрятали в колонию на 3,5 года Бориса Образцова.
😱26🤬17👍8❤4🤔3🤮1
Годы и даже десятилетия идут — кретинический журнализм в духе «ну нам же прислали пресс-релиз» процветает. Что должна сказать читателю эта цифра? 700 тонн орехов это много? Мало? Больше, чем за аналогичный период 2024 года? Меньше? Сменился ключевой источник? Остался прежним? Что, блять, вообще с орехами ебаными происходит? И зачем автор потратил своё время, время выпускающего редактора, деньги редакционного бюджета и, что самое важное, внимание читателя на абсолютно бессмысленную информацию с нулевой ценностью? Даже если его, автора, жизнь будет зависеть от ответа на этот вопрос, даже если его наиболее болезненные части тела будут закручивать в тиски, он не сможет ответить на простой, но самый главный для любой журналистики вопрос: «Нахуя ты это написал?»
💯60👍14😁11❤4👏1😱1🤣1😨1